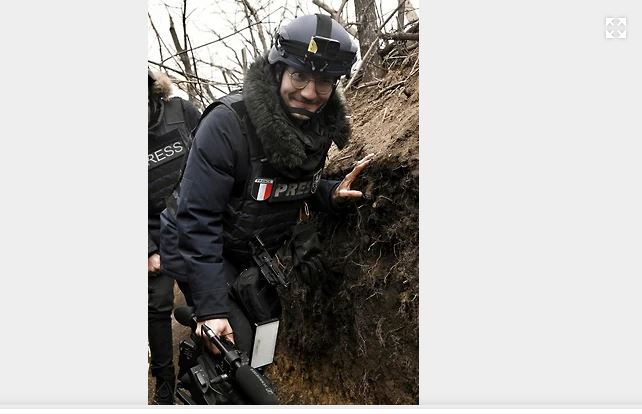Но поддерживая это бытие, нельзя не понимать, насколько вопиющим образом это относительно старое бытие противостоит новым целям.
Постсоветская жизнь в разных ее модификациях длится уже тридцать два года. Нужно ли к этому периоду добавлять еще четыре года так называемой перестройки, в течение которых не только элита, но и широкие общественные массы стремились вырваться из предыдущего советского бытия и перейти в то бытие, которое потом начало складываться?
По мне — так нужно. Но это не имеет решающего значения. Гораздо важнее то, что прошло более тридцати лет формирования бытия на иной основе, нежели оно формировалось в советскую эпоху.
Даже если бы в течение такого периода времени всё было полностью пущено на самотек, всё равно какое-то бытие, существенно отличающееся от того, из которого так хотели вырваться очень и очень многие, было бы сформировано. Но этот процесс не был пущен на самотек. Он яростно управлялся очень специфической элитой, связь которой с Западом была обнажена до предела. И было ясно, что руководит процессом именно Запад. А наша так называемая элита старательно выполняет задания Запада, сочетая эту старательность с административной лихостью и вздорностью. То есть с тем, что было унаследовано постсоветской элитой от самого разного нашего прошлого, как советского, так и досоветского.
Это негативное элитное наследие Белинский описывал не худшим образом, с горечью говоря о том, что современная ему Российская империя представляла собою «ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей!»
Возможно, какие-то мои соотечественники не разделяют такой оценки досоветского прошлого и находят в нем очень много позитивного. Я не буду этого оспаривать. Как не буду я оспаривать и того, что в советском прошлом были замечательные черты.
Но эти замечательные черты и досоветского, и советского прошлого, во-первых, причудливым образом сочетались с тем, что описывает Белинский.
И, во-вторых, могли позитивным образом влиять на уклад жизни в той степени, в какой страна не принимала западной гегемонии, прямо или косвенно настаивала на своей инаковости, ухитрялась сочетать эту инаковость с вестернизацией, ничуть не меньшей, чем в те постсоветские годы, на которые я хочу обратить внимание читателя.
Вот что Пушкин об этой стародавней вестернизации элиты империи пишет в своем романе «Евгений Онегин»:
Еще предвижу затрудненья:
Родной земли спасая честь,
Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевесть.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном,
Итак, писала по-французски…
Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.
Далее создатель того русского языка, на котором потом говорила вся наша великая литература на протяжении двух столетий, с тонкой иронией размышляет о том, нужно ли заставлять дам читать по-русски. Он обсуждает влияние того, что представительницы высшего сословия Российской империи слабо владели русским языком, на специфическое формирование самого этого языка, делая при этом очень глубокие замечания касательно результата взаимодействия чужой культуры с русской почвой. Конечно же, русский язык знали совсем плохо, французский намного лучше, признает поэт, не впадая в оголтелую почвенность, но, говорит он в своей поэме, произошел какой-то странный синтез, и эти светские дамы с их французскостью специфически повлияли на формируемую языковую среду.
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной?
Вздыхая по поводу того, что никто, кроме него, не сможет переложить иноплеменные слова страстной девы на русский язык, Пушкин далее создает высочайший шедевр русского поэтического стиля, оказавший огромное влияние на мировидение и мирочувствование нескольких поколений русских людей. Этот шедевр называется «Письмо Татьяны Лариной к Евгению Онегину». И никто из тех досоветских и советских школьниц, которые учили это письмо наизусть, не задумывались над смыслом того, что Пушкин предварял своему переводу на русский язык письма Татьяны, написанного по-французски.
Но почему при таком вопиющем перекосе в антинациональную сторону российская элита могла худо-бедно и расширять, и отстаивать огромную страну? А также участвовать в создании совсем не похожей на западную величайшей в мире литературы? А также каким-то причудливым образом отстаивать почти незнакомую ей русскую самобытность?
Лично мне кажется, что тут огромную роль сыграла задержка в переходе России от феодального бытия к тому буржуазному бытию, которое сначала так много обещало, а потом показало свою уныло-свирепую изнанку. А также то, что к изнанке в итоге всё и сводится.
В любых своих по-настоящему ярких проявлениях, то есть в самой сути своей, русская досоветская культура в целом, и прежде всего великая русская литература, были неистребимо дворянскими, то есть антибуржуазными. И если даже великие произведения создавались так называемыми разночинцами, проклинавшими дворянское сословие, этот дворянский антибуржуазный дух загадочным образом управлял творчеством самих антидворянских разночинцев. А поскольку антибуржуазный дух был не только дворянским, но и народным (русское крестьянство в массе своей столыпинские реформы не приняло, а кулаков презирало и ненавидело), то так или иначе сплетались в своей антибуржуазности дворянские и простонародные начала. И именно это сплетение породило Ленина, большевизм, восстановление страны после позорного краха русской буржуазии, пришедшей к власти в феврале 1917 года и ничего не сделавшей за время подаренных ей судьбой восьми месяцев властвования над огромной расползающейся территорией и растерянным населением.
Антибуржуазность аристократии и связь этой антибуржуазности с народными добуржуазными традициями проявляла себя по-разному в разных странах. Всё во многом зависело от того, насколько прочными были народные антибуржуазные традиции. И каков был их подлинный сокровенный смысл.
Что же касается антибуржуазности той или иной аристократии (английской, немецкой, итальянской, австрийской, русской и т. д.), то здесь налицо две тенденции внутри одного антибуржуазного течения, сформировавшегося уже в первые десятилетия XIX века и решающим образом повлиявшего на всё XX столетие. Это антибуржуазное течение принято называть романтизмом. Его источником является страшное разочарование в той изнанке, которая была обнаружена за фасадом революционных деклараций по поводу «свободы, равенства и братства». Романтизм проклял буржуазию за ее притворное желание осуществлять на практике этот высокий идеал. Романтизм безжалостно обнажил всё то, что я здесь называю изнанкой буржуазного строя и что на самом деле, как показала история, является его нутром и подлинной сущностью.
Что же касается тех двух тенденций, которые очевидным образом присутствовали внутри этого самого романтизма, то советское литературоведение назвало их революционным и реакционным романтизмом. Байрон, Шелли, Гейне были, по мнению советских литературоведов, именно революционными романтиками, а Вордсворт, Кольридж, Саути и другие, будучи в молодости яростными поклонниками Великой французской революции, в свой «озерный период» становятся почитателями феодальной старины. И в каком-то смысле сторонниками феодальной реставрации.
Романтизм доминировал в качестве чего-то большего, чем идеология, в течение первых десятилетий XIX века. Надо сказать, что в этот относительно короткий период о внятной антибуржуазной идеологии говорить еще не приходилось. Потому что память о феодализме с его уродствами и очевидным вырожденчеством была еще жива. И прямо говорить о том, что нужно возрождать феодализм в его известном виде, могли только малоавторитетные представители совсем уж ультраправых тенденций. А идеология борьбы против буржуазии еще не могла сформироваться по-настоящему. Потому что эту буржуазию ждали, на нее надеялись. И прямо так сходу сказать «за что боролись, на то и напоролись» было очень трудно — коль скоро речь идет о необходимости внятного идеологического высказывания, предполагающего не только критику буржуазии, но и указание на то, какие именно силы должны эту буржуазию низвергать, что произойдет после этого низвержения буржуазии и так далее.
Ничего подобного в идеологических разработках, осуществлявшихся в первые десятилетия XIX века, не было и в помине. А вот культура уже начинала разминать то, что идеология еще не могла себе позволить. Потому что культура не обязана рассуждать о движущих силах антибуржуазных революций, о постбуржуазном устройстве. Она просто говорит о том, что буржуазная действительность совсем нетерпима — примерно так, как об этом говорил Гейне в своем стихотворении «ANNO 1829»:
Для дел высоких и благих
До капли кровь отдать я рад.
Но страшно задыхаться здесь,
В мирке, где торгаши царят.
Им только б жирно есть и пить, —
Кротовье счастье брюху впрок.
Как дырка в кружке для сирот,
Их благонравный дух широк.
Их труд — в карманах руки греть,
Сигары модные курить.
Спокойно переварят всё.
Но их-то как переварить?
Хоть на торги со всех сторон
Привозят пряности сюда,
От их душонок рыбьих тут
Смердит тухлятиной всегда.
Нет, лучше мерзостный порок,
Разбой, насилие, грабеж,
Чем счетоводная мораль
И добродетель сытых рож!
Эй, тучка, унеси меня,
Возьми с собой в далекий путь,
В Лапландию иль в Африку,
Иль хоть в Штеттин — куда-нибудь!
О, унеси меня! — Летит…
Что тучке мудрой человек!
Над этим городом она
Пугливо ускоряет бег.
Гейне не размышляет о том, как бы ему свергнуть ненавистный буржуазный уклад. Он просто констатирует, что жить хоть сколько-то человеческой жизнью при этом укладе нет никакой возможности. И потому его надо свергнуть. А с помощью кого — непонятно. И тут Гейне заносит. Он начинает благословлять всё, что способно противостоять удушающему воздействию этого уклада. И мерзостный порок, и разбой, и насилие, и грабеж.
А где всё это — там, конечно, и дьявол. Размышляя по его поводу, Гейне пишет следующее:
«У Господа Бога было пустовато в кассе, когда он создал мир. Он принужден был занять денег у черта под залог всей вселенной.
И вот, так как Господь Бог и по божеским и по человеческим законам остается еще должником черта, то из деликатности он не может ему препятствовать слоняться в мире и насаждать смуту и зло.
Но черт тоже опять-таки очень заинтересован в том, чтобы мир не совсем погиб, так как в этом случае он лишится залога; поэтому он и остерегается перехватывать через край, а Господь Бог, который тоже не глуп и хорошо понимает, что в корысти черта для него заключается тайная гарантия, часто доходит до того, что передает ему всё управление миром, то есть поручает черту составить правительство».
Совсем нетрудно сопоставить эти размышления Гейне о природе дьявола с тем, что с гораздо большей тщательностью, глубиной, коварностью и осторожностью было разработано Гёте в его «Фаусте». Что же касается Гейне, то он не ограничивается общими рассуждениями о непростоте отношений Бога и дьявола и проявляет явную заинтересованность в специфике тщательно исследуемого им дьявольского начала. Об этом говорит, например, такое размышление Гейне:
«Дьявол существо настолько холодное, что не может себя нигде хорошо чувствовать, кроме как в огне. На эту холодность дьявольской природы жаловались все женщины, имевшие несчастье вступать с ним в близкие отношения.
Удивительно совпадают в этом отношении дошедшие до нас показания ведьм в колдовских процессах всех стран. Эти дамы, признававшиеся в своей плотской связи с дьяволом, даже под пыткой неизменно рассказывают о холоде его объятий; ледяными — плакались они — были проявления этой дьявольской нежности.
Дьявол холоден даже в качестве любовника».
А вот еще одно размышление того же Гейне по поводу довольно тонких аспектов дьявольщины. Совершенно очевидно, что размышлять на эту тему можно, только если она представляет для размышляющего интерес не только умозрительный, но и иной. Обсуждая тонкую природу ведьмовства, столь важного для Гёте с его шабашем на Брокене, Гейне пишет следующее:
«В сборище ведьм есть у князя тьмы избранница, носящая титул верховной невесты и состоящая как бы его главной любовницей. Это очень красивая, крупная, почти огромная женщина, ибо дьявол не только знаток прекрасных форм, артист, но и любитель плоти, и, по его мнению, чем больше плоти, тем больше и грех».
Хулители Маркса, обрадовавшись, скажут: «Ну вот, яблоко от яблони недалеко падает. Где Гейне, там и его дружок Маркс». Но в том-то и дело, что Маркс никогда в эту сторону не шел так далеко, как Гейне. Почему не шел? Потому что понимал, что если однажды двинешься в эту сторону, то рано или поздно придется расплеваться с гуманизмом и обняться с неким неотделимым от дьявола антигуманистическим началом.
Поэтому Маркс всегда дистанцировался от романтического сатанизма, не дистанцируясь от романтизма в целом. Маркс, конечно, был романтиком. Но романтиком особым, считавшим, что заигрывать с дьяволом нельзя, ибо тогда ты заигрываешь с врагом человечества. И что дьяволу, враждебному человечеству, надо на духовном уровне, который Маркс вовсе не отвергал, противопоставить в качестве положительного героя именно Прометея, как очевидного друга человека.
Вот тут начинает формироваться очень тонкая грань между коммунистическим гуманизмом — а Маркс очевидным образом был именно гуманистом, и в этом его сила — и особым романтическим отчаянием в его разных модификациях.
Что касается этого отчаяния, способного заключить союз против буржуазии хоть с дьяволом, хоть с разбоем, насилием и грабежом, то тут намного дальше Гейне идет Бодлер. Вот, к примеру, его Литании Сатане:
О, мудрейший из Ангелов, дух без порока,
Тот же бог, но не чтимый, игралище рока,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Вождь изгнанников, жертва неправедных сил,
Побежденный, но ставший сильнее, чем был,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Всё изведавший, бездны подземной властитель,
Исцелитель страдальцев, обиженных мститель,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Из любви посылающий в жизни хоть раз
Прокаженным и проклятым радостный час,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Вместе с Смертью, любовницей древней и властной,
Жизнетворец Надежды, в безумстве прекрасной,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Зажигающий смертнику мужеством взор —
Не казнимым, но тем, кто казнит, на позор,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Узнающий в завистливых толщах приметы
Подземелий, где бог утаил самоцветы,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Сквозь граниты умеющий в недрах прозреть
Арсеналы, где дремлют железо и медь,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Закрывающий пропасть гигантскою дланью
От сомнамбул, вдоль края бродящих по зданью,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Охраняющий кости бездомных пьянчуг,
Если хмель под колеса кидает их вдруг,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Давший людям в смешенье селитру и серу,
Чтоб народ облегчил своих горестей меру,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Соучастник, клеймящий насмешливо лбы
Подлых Крезов, бездушно глухих для мольбы,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Вызывающий в девушках странным дурманом
Доброту к нищете, сострадание к ранам,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Бунтарей исповедник, отверженных друг,
Покровитель дерзающей мысли и рук,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!
Отчим тех невиновных, чью правду карая,
Бог-отец и доныне их гонит из рая,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!»
Здесь мы имеем дело с недоосмысленным явлением — инфернализацией романтического протеста. Острие протеста как бы направлено на низвержение буржуазного строя, уничтожающего живую жизнь, по словам Маркса, «в холодной воде эгоистического расчета». Но в таком протесте нужен какой-то союзник, ибо буржуазный строй очень крепок. Что это за союзник? Сначала ты назовешь таким союзником разбой, насилие и всё прочее, а потом, как мы убедились, дьявола. Ну, а дальше — кто во что горазд.
Итак, налицо движение как бы революционного романтизма в сторону именно инфернализации протеста против буржуазного строя.
Но рано или поздно, двигаясь в этом направлении, революционный романтизм должен был сойтись в том, что касается именно этой самой инфернализации, со своим романтическим двойником. Тем самым двойником, которого в советском литературоведении называли реакционным.
Этот реакционный романтизм прямо говорил о том, что буржуазный ужас надо свергнуть во имя утверждения некоего более гуманистического феодального порядка. Ностальгия по добрым старым феодальным временам и по архаике как таковой является сущностью реакционного романтизма и его основополагающей жанровой спецификой.
Такая ностальгия в ее заскорузлом собственно политическом варианте к концу XIX века оформилась в виде монархических и неомонархических подпольных структур, всерьез настроенных на то, чтобы расправиться с буржуазными конституциями, буржуазными парламентами и возвести на престол тех или иных монархов.
Но так называемый реакционный романтизм чаще всего избегал всех видов взаимодействия с грубоватой и жестковатой для него реставрационной деятельностью, взращиваемой так называемой недобитой аристократией, избежавшей краха в эпоху великих буржуазных революций. Но специалисты утверждают, что такая аристократия, ушедшая в специфическое подполье после утверждения буржуазного уклада жизни, представляет собой лишь верхний слой аристократического подполья. И что на самом деле таких слоев достаточно много.Я неоднократно обращал внимание читателя на специфическую концепцию крупного советского культуролога Михаила Бахтина. Серьезным исследованием и этой концепции, и личности Бахтина занималась и продолжает заниматься сотрудница возглавляемого мною аналитического центра Анна Евгеньевна Кудинова.
Существенный интерес представляет не только сама концепция карнавализации, предложенная Бахтиным, но и его специфическая трактовка всего, что связано с творчеством Франсуа Рабле и с предложенной этим французским мыслителем образа Телемского аббатства (так называемой Телемы).
Отнюдь не произвольные измышления, именуемые конспирологическими, а вполне доступные читателю и документально подтвержденные сведения позволяют проследить несколько существенных связей.
Во-первых, связь между карнавализацией в том виде, в каком ее описывает Бахтин, и так называемыми сатурналиями, которые все специалисты рассматривают как предтечу этой самой карнавализации.
Я мог бы, дабы предотвратить попытки приравнять мои умозрения к так называемой конспирологии, начать подробнее знакомить читателя с размышлениями о сатурналиях таких знаменитых историков древности, как Тит Ливий, Дионисий Галикарнасский. Но тогда это мое размышление о культурологической и даже метафизической подоплеке российско-украинского конфликта, о неотменяемой и, как я убежден, благой роли России во всемирно-историческом процессе, о двойственности нынешнего российского бытия превратилось бы в объемное исследование одного из древних культов и всего того, что он породил в эпохи, когда сатурналии закончились и началось нечто другое.
Поскольку такой разворот моего исследования увел бы нас слишком далеко в сторону, я, заверив читателя в том, что под моими краткими общими рассуждениями лежит очень объемная историческая достоверность, ограничусь рассмотрением простейших логических и культурологических связей между сатурналиями и элитными группами, продолжающими поклонение как бы низвергнутым богам. Мои краткие общие рассуждения сводятся к следующему.
1. Сатурн — это древнеримский аналог древнегреческого бога Кроноса.
2. Кронос был низвергнут Зевсом, которому впоследствии пришлось бороться с титанами, пытавшимися восстановить власть Кроноса.
3. Во времена, когда поклонялись сначала Кроносу, а потом Зевсу, религиозные поклонения были устойчивыми. И те, кто очень сильно связал себя с Кроносом, не могли в одночасье расплеваться с ним и начать поклоняться только Зевсу. Да и народу, привыкшему поклоняться Кроносу, было трудно в одночасье начать поклоняться новым божествам и полностью расплеваться с Кроносом. Поэтому всегда имели место компромиссы, в ходе которых поклонение одним, старым, богам заменялось поклонением новым богам, находящимся в сложных отношениях с богами старыми.
4. Компромисс предполагал сохранение какого-то малого промежутка времени, в течение которого жрецы новых богов позволяли поклонникам старых богов насладиться действом, которое призвано временно и ограниченно восстановить старых богов в их прежних правах.
5. При этом жрецы новых богов строго следят за тем, чтобы подобное восстановление старых богов в правах было и имитационным, и сугубо временным.
6. Поскольку любой уклад жизни строится на господстве и подчинении, то подчиненным тоже надо дать временную и сугубо временную компенсацию, которая позволит им легче сносить тяготы своего подчиненного (в римском случае рабского) положения.
7. Поэтому временно разрешается и восхваление старых богов, и выворачивание наизнанку социальной иерархии. Во время сатурналий господа должны прислуживать рабам, они не имеют права их за что-либо наказывать и так далее.
8. Время празднования культа старых, отмененных, богов рассматривается еще и как время отмены господствующей социальной иерархии. А такая отмена, в свою очередь, является как бы выворачиванием этой иерархии наизнанку.
9. И тут очевидным образом: что карнавал, что сатурналии. Просто сатурналии носят гораздо более древний характер.
10. Такова временная и условная легализация тех культов, которые уже низвергнуты, но еще имеют и своих поклонников, и свое право на укоренение в очень устойчивой жизни традиционного архаичного общества.
11. И тут никакой особой разницы между карнавалом и сатурналиями, разумеется, нет. Это признается всеми специалистами.
12. Такова легальная или официальная часть отношений между поклонниками старых и новых богов. Но никогда серьезные поклонники старых богов не удовлетворятся подобной, почти унизительной для них сатисфакцией. А это значит, что они противопоставят унизительному для них временному поклонению старым богам нечто гораздо более серьезное. То есть регулярное и полноценное исполнение тех религиозных обрядов, которые некогда были общепринятыми, а потом с приходом новой религии были отменены.
13. А поскольку новая религия всегда связана с государством, а государство всегда боится подобных недозволенных заигрываний с чуждыми ему богами, то и жрецы новых богов, и государство будут рассматривать регулярное и несанкционированное поклонение старым богам как преступление, за которое надо карать.
14. Понимая это, серьезные поклонники старых богов будут скрываться от подобных преследований. И отправлять свои обряды тайно. Так возникают на месте ранее общепринятых религиозных празднований некие подпольные таинства. А, значит, и подпольные элитные группы.
15. Что такое шабаши ведьм, описанные Гёте?
Это на самом деле исполнение неких обрядов, которые имели легальный характер в дохристианскую эпоху и превратились в подпольные обряды в связи с низвержением прежних языческих богов и утверждением новой христианской веры. И тут что новая христианская вера, что новая олимпийская вера, что любая другая новая вера.
16. После любой замены старой веры новой возникают, во-первых, послабления по части временной уступки тем, кто остался верен старой вере. Притом что чаще всего ей остаются верны или очень твердые в своей вере элитарии, или народные массы.
А, во-вторых, подпольные культы, в которых постепенно все враги новой веры оказываются соединены в единое многоликое существо.
17. Является ли этим существом христианский дьявол, уважаемый поклонниками подпольных культов за то, что он является врагом божества новой веры, или просто древний бог типа Сатурна, — это отдельный вопрос. Но то, что подобные многоликие божества, противостоящие официальному богу, обязательно окажутся востребованы при любой религиозной революции с ее утверждением новых богов, достаточно очевидно.
18. Поскольку подпольные культы отвергают и новых божеств, и новый уклад жизни, то противники нового уклада жизни, приходя в отчаяние от того, насколько этот новый уклад им кажется прочным и несвергаемым, начнут, во-первых, объединяться.
А, во-вторых, превращать свою ненависть к определенному укладу жизни в поклонение каким-нибудь богам или сущностям, которые этому укладу жизни противостоят.
19. В одних своих стихах Бодлер превращает свою ненависть к существующему укладу жизни в поклонение Сатане. А в других — в поклонение тому же Каину.
I
Авеля дети, дремлите, питайтесь,
Бог на вас смотрит с улыбкой во взоре.
Каина дети, в грязи пресмыкайтесь
И умирайте, в несчастьи, в позоре!
Авеля дети, от вас всесожженья
К небу возносятся прямо и смело.
Каина дети, а ваши мученья
Будут ли длиться всегда, без предела?
Авеля дети, всё сделано, чтобы
В ваших полях были тучными злаки.
Каина дети, а ваши утробы
Стонут от голода, словно собаки.
Авеля дети, под ласковым кровом
Вам и в холодную зиму не хуже!
Каина дети, под ветром суровым
В ваших пещерах дрожать вам от стужи!
Авеля дети, любите, плодитесь,
Пусть вас заменят детей ваших дети.
Каина дети, любить берегитесь,
Бедных и так уж довольно на свете!
Авеля дети, вас много, вас много,
Словно лесные клопы вы без счета!
Каина дети, проклятой дорогой
Жалко влачитесь с тоской и заботой!
II
Авеля дети! Но вскоре! но вскоре!
Прахом своим вы удобрите поле!
Каина дети! кончается горе,
Время настало, чтоб быть вам на воле!
Авеля дети! теперь берегитесь!
Зов на последнюю битву я внемлю!
Каина дети! на небо взберитесь!
Сбросьте неправого бога на землю!
Тут, как мы видим, уже самым прямым непосредственным образом беднякам, и именно беднякам, вменяется определенное богоборчество. Ибо бог от них отвернулся. Так же как от Каина.
20. Бодлер остановился на этом. А какой-нибудь далеко не бесталанный Уильям Блейк пошел еще дальше.
21. Было бы интересно проследить, куда пошли Блейк и другие. Но это, опять же, отвлекло бы нас от основной темы. Поэтому я заканчиваю свой короткий культурологический экскурс из двадцати одного пункта с тем, чтобы перейти от культурологии к очень близкой ей по духу политологии.
Нельзя оторвать Маркса от романтической традиции. Потому что он в нее очень глубоко укоренен. Но есть три отличия Маркса от большинства романтиков, которые только негодуют по поводу ужасности установившегося буржуазного строя.
Первое отличие состоит в том, что Маркс не только негодует. Он впервые оформляет романтическое негодование, всегда в чем-то беспомощное и потому особо радикальное, в идеологию низвержения буржуазного строя. Маркс говорит романтикам: «Вы этот строй просто ненавидите, и я с вами в этом солидарен. Но я иду дальше и превращаю вашу беспомощную ненависть в нечто большее, в план действий по низвержению того, что вы ненавидите».
Второе отличие состоит в том, что Маркс, солидаризируясь с романтиками в их ненависти к буржуазному строю, в отличие от романтиков не расплевывается до конца с ненавидимым романтиками просвещением, на которое романтики возлагают ответственность за формирование злого буржуазного уклада жизни. Связывая это зло с разумом, восхваляемым буржуазными революционерами, романтики посягают на разум как таковой, восхваляя всё иррациональное. А Маркс чурается этого романтического иррационализма и пишет сугубо рациональный труд под названием «Капитал». Как говорят в Одессе: почувствуйте разницу. Разница и в самом деле огромна, не так ли? И она имеет решающее значение.
Третье отличие состоит в том, что Маркс действительно формирует новую эпоху, в которой почитание разума превращается в почитание истории. А разум приобретает в истории другое, диалектическое, качество. В советскую эпоху слово «диалектика» было заезжено до предела. А в эпоху постсоветскую всё еще ухудшилось, потому что стали предметом почитания самые примитивные клише, используемые советскими начетчиками. Но это же не значит, что диалектика не дышит стратегической новизной и не позволяет в рамках этой новизны почувствовать разницу между логическим и историческим началами нашего бытия. А почувствовав эту разницу, понять, насколько историческое выше, объемнее и величественнее логического.
Говоря попросту, логическое еще можно передоверить машине, а историческое нельзя. И потому перед тем, как восславить машину, тому же Фукуяме надо было расправиться с историей.
Маркс соединил в себе романтический протест, почитание разума, которое, казалось бы, с этим протестом несовместимо, и революционную деятельность, в рамках которой невозможно просто страдать по поводу бесконечной гибельности существующего буржуазного уклада. Вместо этого революционер должен думать о том, с опорой на что и каким образом он этот уклад будет менять. А как только революционер начинает об этом думать, романтический экстаз оказывается сдержан подобными размышлениями, и ему уже негоже предаваться крайним и всегда в чем-то истерически слабым инфернализациям.
Поэтому Марксу не нужен ни сатана, ни дети Каина, ни какой-нибудь там Кронос-Сатурн. Ему нужен именно Прометей, который отторг предложение своих родственников-титанов бороться против Зевса на стороне Хаоса, Прометея, который принес людям огонь, который сохранил дух борьбы, даже будучи прикованным к скале, и так далее. Это крайне существенно.
Ну, а теперь об этой самой революционной борьбе с буржуазией.
Кто должен с ней бороться?
Для Маркса и его последователей, к числу которых со всеми оговорками можно причислить Ленина, бороться с буржуазией должен пролетариат. А для тех же народников или эсеров бороться с буржуазией должно крестьянство. И тут разница огромная.
Крестьянство неизбежно слито воедино со всеми архаическими традициями. Крестьянство не только религиозно в классическом православном варианте. Оно еще и отдает дань язычеству, порой наидревнейшему. И всё это должно учитываться, если речь идет о том, чтобы крестьянство выступило против буржуазии.
Но перед тем как крестьянство выступит против буржуазии, оно должно, во-первых, свести счеты с очень мощным феодальным укладом.
И, во-вторых, само не обуржуазиться.
Наполеон, по мнению Маркса, превратил угнетаемых феодалами крестьян в мелких собственников, то есть в мелких буржуа. И на столетия разорвал связь крестьянства со всеми силами, которые имели антибуржуазный характер.
Кто сделал то же самое в России?
Ленин и большевики с их декретом о земле.
А что стало потом чем-то диаметрально противоположным?
Конечно же, большевистская коллективизация. Именно она пресекла возможность наполеоновского сценария для России, то есть сценария, при котором крестьянин, сам став буржуа, перестает быть носителем антибуржуазного духа. И тут что Наполеон, что Столыпин. Не зря ведь большевики говорили о бонапартизме Столыпина.
Ленин понимал, что в чистом виде марксизм в России не проходит, потому что основная антибуржуазная сила в России — это крестьянская беднота. Но понимал он и другое. Что если эта беднота постепенно воспользуется его декретом о земле, глубоко эсеровским по своему духу, то Россия окажется затянутой в тину очень специфической крестьянской мелкобуржуазности. И тогда она просто исчезнет в качестве мощного государства, претендующего на нахождение своего пути развития человечества. Отсюда острая постановка вопроса о диктатуре пролетариата.
Завоевав власть и стремясь совершить неслыханное укрепление Советской России как устроительницы новой всемирно-исторической бытийственности, большевики должны были и в культурном, и в иных смыслах опереться на что-то, во-первых, народно-антибуржуазное, во-вторых, неспособное быть втянутым в стихию мелкой буржуазности, пусть даже и народно-крестьянской.
Двадцатые годы XX века были эпохой проб и ошибок, эпохой культурных экспериментов, призванных нащупать нужную опору в том, что касается осуществляемого большевиками Красного проекта. Такие эксперименты шли в широком диапазоне от крестьянских хилиастических упований, которыми пронизана поэзия Есенина, до антикрестьянских индустриальных утопий, оформляемых и в поэзии Маяковского, и в деятельности Пролеткульта.
Сталин подвел черту под этими экспериментами и предложил нечто гениальное в своей простоте. Он предложил взять русскую дворянскую культуру, глубоко антибуржуазную по своему духу, а значит, созвучную в этой антибуржуазности русскому большевизму, — и передать эту культуру всему народу. Как пролетариям, так и крестьянам. Перед этим избавив крестьян от мелкобуржуазного соблазна и восстановив общину под новым названием «колхоз».
Крестьяне сохранили и общинность, и почвенность, но одновременно потеряли тот собственнический потенциал, который позволял превратить их в мелкую буржуазию. Плюс они получили другой уровень образования, другую (кто бы что ни говорил) социальную перспективу, индустриализацию сельскохозяйственного труда и эту самую антибуржуазную дворянскую культуру. Ее получили все граждане Советского Союза.
Аркадий Шишкин. На уборку всей артелью. 1931
Чем же именно ответила на этот сталинский эксперимент сила под названием мировая буржуазия?
Уже при зарождении фашизма эта специфическая буржуазия стала заигрывать с многоликим культурным подпольем, проникнутым глубокой ненавистью к этой самой буржуазии.
Казалось бы, как могла буржуазия заигрывать с подобной антибуржуазной силой? Но ведь заигрывала!
И тут ребром встает вопрос о том, была ли эта буржуазия в той же Пруссии, а затем в Германии, которую Пруссия сформировала сообразно своему представлению о должном, хоть сколько-нибудь революционной и антифеодальной?
Есть все основания утверждать, что подобной буржуазии в Германии не было. А была в ней та сила, которая запросто соединилась и с прусской военной аристократией, глубоко феодальной по своему духу, и с тем юнкерством, которое было сотнями социальных нитей сплетено с прусской военщиной, и с немецким очень специфическим как бы мелкобуржуазным крестьянством. Которое было пропитано всеми видами реакционного романтизма, очень сильно укоренено в дохристианском язычестве и так далее.
Гитлер, заявив о некоем национал-социализме, призванном мобилизовать народные массы на сброс «буржуазной еврейской нечисти», на самом деле оперся на антибуржуазное, реакционно-романтическое народничество. А оперевшись на него, создал очень причудливый симбиоз феодализма и капитализма.
Еще дальше в этом направлении пошел Гиммлер. Гитлер в силу многих причин не смог до конца расплеваться с представлениями, которые Гиммлеру и его сообщникам казались и двусмысленными, и слишком половинчатыми. Таковыми им казались:
1. Сама идея величия немецкого народа, которому было вменено завоевание всего мира. И который явным образом на это не тянул.
2. Идея величия арийской расы, нордического духа. «А что прикажете делать с ненордичекими аристократиями, — спрашивали сторонники Гиммлера, — ну евреев изведем, а с остальными что делать?»
3. Идея величия арийско-христианского духа, она же идея единства арийских и христианских оснований. Гиммлер и его соратники пожимали плечами… «Только нам не хватало, — говорили они, — возврата христианства под арийской маской. Да для нас это христианство в любых вариантах совершенно неприемлемо».
Мировой капитал со временем сам всё больше проникался всеми идеологическими и метафизическими содержаниями, призванными оправдывать абсолютное вечное господство. Эти идеологические и метафизические содержания не имели никакого отношения к духу просвещения и гуманизма.
Мировой капитал стремительно прекращал держаться даже за ту ущербную буржуазность, которую критиковали романтики. Он стремительно дегуманизировался. И в этом смысле с большим доброжелательством относился к идее специфической антибуржуазности.
Мировой капитал сам хотел освободиться от собственной буржуазности. Он стремился к этому в силу собственной негативной вырожденческой эволюции. Но его к этому еще больше подталкивали сталинские антибуржуазные дворянские по своему духу культурные инновации, осуществлявшиеся в СССР.
Мировой капитал совершенно не хотел, чтобы народные массы осваивали дворянскую антибуржуазную культуру, высокую и гуманистическую по своему духу.
А что могло по-настоящему подорвать подобные сталинские культурные инициативы? Только специфические антидворянские умонастроения, всегда существующие в любом обществе и очень сильно активизированные после так называемого разоблачения культа личности Сталина.
Эти умонастроения принято называть мещанскими. Но суть их, конечно же, в том, что при любом ослаблении некоего духовного накала, заменяемого вялой болтовней о материальном благосостоянии трудящихся, внутри разных слоев советского общества рождается мещанство, как мостик, соединяющий ослабление антибуржуазной духовности с мечтой о буржуазном существовании. Эту мечту и реализовала Россия за тридцать постсоветских лет. Ее взрастил поздний бездуховный застой. Ей помогли политически оформиться и внешние враги, и внутренние элитные группы, считавшие, что именно буржуазность олицетворяет вечную правильность настоящего солидного прагматического бытия.
Более тридцати лет в постсоветской России взращивалась и культивировалась именно любая буржуазность, призванная сломать всю антибуржуазную традицию — и дворянскую, и советскую, и сталинскую, основанную на синтезе дворянской и советской антибуржуазности.
А потом такая Россия, в которой было сделано всё возможное для того, чтобы подавить многовековое русское сопротивление тому, чтобы стать буржуазной страной, внезапно бросила вызов Западу, насаждавшему в ней с невероятным упорством именно эту, самую низменную, самую мелкотравчатую буржуазность. Не есть ли это главный антагонизм современной русской эпохи? Не есть ли в этом большая трагичность того, что скромно называется СВО?